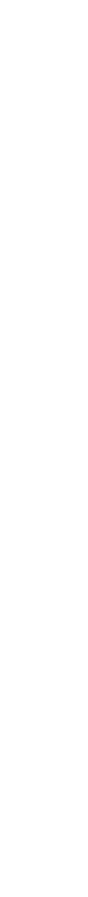«Культура Алтайского края»: артист Молодёжного театра Алтая Анатолий Кошкарёв – тридцать лет на сцене
Я запомнила вас по роли Тибальта в спектакле ТЮЗа «Ромео и Джульетта» в режиссуре Виктора Захарова. Признаться, такого молодого красивого «крысолова» я никогда прежде не видела. Высокий, тонкий, заносчивый, харизматичный. Темные кудри на голове, темпераментная речь, жгучие глаза! Спросила в антракте: «Откуда актер приехал»? Ответили: «Из Иркутска». Вы там родились?
Нет, я из города Черемхово Иркутской области, чем очень горжусь. там родились такие известные драматурги, как Михаил Ворфоломеев, Александр Вампилов, Владимир Гуркин. Удивительно щедрая земля на таланты. А что касается театра, то я еще школьником, с восьмого класса, участвовал в концертах агитбригады при ДК Черемхово. Песни пел, стихи читал, играл в театральных миниатюрах. И уже в девятом классе точно решил для себя, что буду актером. В Иркутском театральном училище конкурс был, ох, большой, сорок человек на место. Но мне повезло, я поступил. Учился вместе со своим земляком, Юрой Степановым. Знаете, конечно. Он потом работал у Петра Фоменко. Ведущим актером был, в кино снимался. И так трагически-нелепо погиб в автокатастрофе. До сих пор вспоминать больно.
А я и не знала, что у вас такие знатные земляки.
Да, Черемхово – место особенное. Когда цветет черемуха, такая красотища, весь город в белой дымке. И люди там добрые, открытые. Ну а потом, по окончании училища, когда было распределение, приехал к нам артист из Барнаула Володя Гудин. Он приглашал меня от имени и по поручению главного режиссера Виталия Шабалина на работу в Алтайский тЮЗ. Наобещали, конечно, золотые горы. Но не в этом было дело, совсем не в этом. Мой отец родился на Алтае, это земля моих предков. Захотелось прикоснуться к своим корням, что-то понять и про них, и про себя. Словом, потянуло.
Да, как-то надолго «потянуло». У вас ведь этот год юбилейный – 30 лет на сцене МТА – эксТЮЗа. Не разочаровались еще в театре?
Да что вы! Я считаю, мне очень повезло. такой классический репертуар наработал, что и не снилось. А с какими замечательными режиссерами судьба свела! Спектакли были один другого интереснее, и зарубежная классика, и русская. В каждом театре бывают, конечно, периоды безвременья, но они проходят. Ведь театр, что ни говори, все-таки живая материя, постоянно обновляющаяся, требующая реализации. Когда я почувствовал, что мне не хватает знаний, то поступил в институт культуры, окончил его. И сейчас пробую найти себя в режиссерской профессии. Для самых маленьких зрителей поставил сказки «Мы лепили колобок» и «Золотой цыпленок». А для публики, что постарше, – спектакль по рассказам Валерия Золотухина «храни тебя Бог».
Выходит, приняла вас земля предков? Благословила.
Еще как благословила. У меня дружная семья, которая всегда меня поддерживает, понимает. Ведь у артистов большая часть жизни проходит в театре: на репетициях, на спектаклях. А время летит неумолимо. Дочка замуж вышла. Сын учится в десятом классе. Я и не заметил, как они выросли.
А самую любимую роль можете назвать? Или трудно выделить в таком солидном послужном списке?
Нет, не трудно. Самая любимая роль – это Васька Пепел из спектакля «На дне» по пьесе Максима Горького. Постановку осуществил Алексей Песегов, режиссер из Минусинска. Мы у него прошли настоящую школу психологического театра. Как мы работали! Полное растворение в судьбе персонажа. Однажды Лариса Корнева, которая играла Василису, так врезала мне по физиономии, что в ушах зазвенело.
Да вы что?!
(Смеется.) До сих пор звенит. По внутреннему накалу страстей это была самая, что ни на есть, натуральная жизнь ночлежки. Со всей ее жестью и беспределом. Вот тогда я и понял, почему моего героя назвали Васька Пепел. Сгорал ведь ни за грош.
Очень хороший спектакль был! Живой, ансамблевый! И роли все до единой самым тщательным образом проработаны. Сценическое пространство – чистое, светлое, как саван. И в конце спектакля – короткая музыкальная тема «Под небом голубым».
В нашей профессии очень многое зависит и от режиссера, и от партнера на сцене. Ведь спектакль, в отличие от кино, каждый раз бывает чуточку другим изнутри. И надо уметь это услышать, поддержать, развить.
А вы можете назвать такого партнера?
Конечно, могу. Это моя любимая актриса Галина Архипенкова. Мы с ней понимали друг друга с полуслова. Она давно не работает в нашем театре, но я постоянно вспоминаю наши спектакли: «Любовь к трем апельсинам», «Федру» Андрея Зябликова, «Продавца дождя» Сергея Афанасьева. Конечно, они были поставлены очень хорошими режиссерами, но живым спектакль рождается в атмосфере особой чуткости партнера к нюансам подтекста, к эмоциональной вибрации речи, к умению держать паузу. Это, несомненно, особый дар.
Я бы добавила – редкий дар. А как вам работалось в сценической версии романа И. Гончарова «Обыкновенная история»?
Легко и свободно. Все было тщательно выверено по актерским задачам. Марина Шелевер, режиссер спектакля, просила меня ничего не играть. Просто включить другой голос, другую тональность, другую мелодию любви. Любви старого человека. Любви, которая все изменила в его жизни. Конечно, в спектакле есть еще над чем поработать, но дыхание у него легкое. Это же не первый вариант спектакля «Преступление и наказание», я именно о нем говорю. там я просто не знал, как подступиться к роли Свидригайлова. Человека страшного, способного на любую низость, подлость и жестокость. Нелегко мне роль давалась, совсем нелегко. И потом, это было мое первое погружение в Достоевского. А я все цеплялся за Свидригайлова, все цеплялся. Ну что он за человек-то такой? Циник, садист, разрушитель, убийца. А Дуню не погубил. Отпустил. Для меня этот поступок Свидригайлова был самым трудно объяснимым в проживании роли. Это как прорыв в другое измерение самого себя. Мне кажется, что я просто растворился в этом человеке. Или Достоевский растворился во мне? Не знаю. Но было такое ощущение, что мы с персонажем очень близко подошли друг к другу. Очень близко. И то, что душа Дуни не была загублена, стало нашим общим прорывом.
Что и говорить: Достоевский – большое испытание для артистов. Да и для публики тоже. Знаете, а я ведь давно хотела признаться вам… в ненависти!
Это как?
То есть, не к вам, а вашему герою. Я очень сильно ненавидела Гаврилу в «Бумбараше». У вас получился такой настоящий, кондовый деревенский мужик, себе на уме, с замашками хозяина теперешней жизни. Ничего святого. Может человека обокрасть, чужую жену присвоить. Да что там, запросто убить может, как птицу влет, из ружья. Поверите ли, на каждом спектакле я все надеялась в глубине души, что Гаврила промахнется. Да-да! Вот таким удивительным был режиссер Вячеслав Кокорин.
Да, это большая утрата для всего нашего театра. Уходят Мастера.
А вот в «Вишневом саде» ваш Симеонов-Пищик очень даже располагал к себе: и добродушием, и компанейским характером, и совершенно бескорыстным участием в судьбе хозяев старинного имения. Хотя все время пытался занять у них денежек.
Но ведь отдавал же. Мне самому этот спектакль дорог. Да и встреча с режиссером Сергеем Афанасьевым – просто очередной подарок судьбы.
А что скажете о роли Каренина в премьерном спектакле МТА «Алексей Каренин»?
В Каренине у меня больше работала актерская интуиция. Откликалось тело. Внутренняя органика. Шел по наитию.
Конечно, по наитию. Это же – воспоминания. Поток сознания. Роман Льва Николаевича Толстого и череда киноверсий с одноименным названием имеют отношение к высказыванию драматурга по касательной. И Василию Сигареву, и режиссеру Денису Малютину важно было понять, что же происходит c человеком, когда его сознание «утоплено». Когда все предохранительные клапаны сорваны. Когда незначительные жесты, прозрачные намеки, обмолвки и реплики способны лишить человека равновесия и вырасти до фантомной боли. Василий Сигарев открыл шлюз «страданию незамеченному» и вывел на первый план Алексея Каренина.
Да, мой герой все время ощущает себя заложником пространства собственной жизни. Он все пытается что-то наладить, а в итоге хватается за пустоту. Я даже чувствую, как он с трудом держит спину, хотя старается выглядеть бодрячком. Сама мысль о том, что надо как-то упорядочить и освоить сдвинувшуюся реальность, лишает его покоя и воли. Но не достоинства. Я сейчас подумал, что мы впервые проявили сочувствие к Каренину и посмотрели на эту историю другими глазами. Сложный спектакль, что и говорить. Но очень интересный. Есть над чем поработать.
Как-то грустно вы это сказали.
Да я пока не знаю, удалась ли у меня роль Сарафанова в «Старшем сыне» по пьесе Вампилова? Вот всегда так: начинаешь говорить о театре, и все проблемы обнажаются.
Я думаю, что роль музыканта Сарафанова у тебя удалась, а спектакль в целом пока не случился. Так бывает. Вроде бы все предвещало удачу: и пьеса на все времена, и молодые обаятельные актеры… Но сердце трогает один-единственный персонаж — отец семейства — Сарафанов, который осмеливается еще на что-то надеяться, во что-то верить. И в пустую бутылку дуть, как в нежную флейту. А душа печалится от тоски и одиночества.
Но ведь у Вампилова все хорошо кончается.
Все не так просто. У Вампилова, как в любой хорошей драматургии, остается шлейф послевкусия и размышление о том, что же будет с героями дальше. И со всеми нами тоже.
Елена Кожевникова
Источник: «Культура Алтайского края»