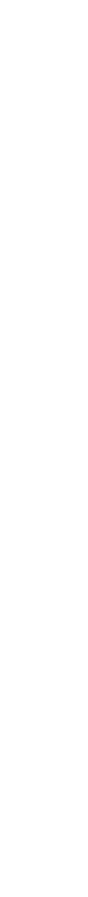«Культура Алтайского края»: дыхание третьего тысячелетия – размышления о спектакле «Вишнёвый сад», поставленном в Молодёжном театре Алтая
В конце XX века, в 1996 году, на малой сцене Алтайского краевого театра юного зрителя режиссером Виктором Захаровым был поставлен спектакль по пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад». Мягкий, лиричный, словно прописанный акварелью, спектакль этот шел в театре свыше десяти лет и снискал сердечное расположение очень многих зрителей. И вот теперь, в начале XXI века, в 2015 году, на сцене Молодежного театра Алтая в постановке известного новосибирского режиссера Сергея Афанасьева состоялась новая встреча с героями «Вишневого сада».
И хотя между первой и второй постановками «Сада» прошло не так уж много времени, дыхание третьего тысячелетия остро ощущается в стремительно меняющемся укладе всей нашей жизни, включая и нравственные приоритеты. Эти явные и подспудные процессы нашли свое прямое отражение в искусстве постмодернизма. В его пронзительно-тревожных, эксцентричных и парадоксальных переплетениях знакомых тем и сюжетов, разрушающих привычное линейное восприятие времени.
Спектакль Сергея Афанасьева «Вишневый сад» отмечен ярким, оригинальным, провокативным прочтением классического произведения. Решение пьесы, знакомой со школьной скамьи, может как шокировать, так и восхищать. Все дело во внутренней установке зрителя. Авторское высказывание Сергея Афанасьева многомерно и объемно. Это тот самый случай, когда литературная основа и режиссерское видение порождают новый текст – сценический. При этом содержательная сторона пьесы Антона Павловича ничуть не пострадала от постмодернистского прочтения. А скорее, наоборот, приросла дополнительными смыслами. Мы, в отличие от чеховских героев, прекрасно знаем, что будет потом: и с садом, и с домом, со страной и ее гражданами. Сценический текст спектакля МТА, произрастающий из матрицы общеславянского архетипа: рай – сад – царство, нисколько не расходится с поэтикой Чехова. Именно из этой матрицы и рождаются ведущие темы спектакля: утрата дома, уничтожение сада, историческая фатальность. Темы рифмуются и дополняют друг друга в контексте режиссерского послания, вызывая долгое эхо реминисценций.
Все ждут с нетерпением возвращения Раневской из Парижа. Все-таки событие: пять лет, как уехала, и вот возвращается. Какая она теперь? Любовь Андреевна (актриса Галина Чумакова) появляется на сцене в окружении домочадцев, вереницей следующих за ней в комнату, «которая до сих пор называется детскою». Она не замечает убогого состояния «милой, прекрасной комнаты»: обшарпанные стены, изрядно потертый старинный шкаф, железные кровати, сиротские покрывала. Любовь Андреевна все время, будто пытается что-то вспомнить, восстановить, зацепиться. Останавливается перед Лопахиным (актер Александр Савин) и долго смотрит на него. Потом слегка удивленно, боясь ошибиться, произносит: «Ермолай»! А он, еще совсем недавно беспокоившийся, узнает ли она его, смущенно добавит: «Алексеевич». И сразу между этими людьми возникает чувственный контакт. Ермолай уже не тот мальчик с разбитым носом, которого Любовь Андреевна утешала в этой самой комнате: «Не плачь, мужичок, до свадьбы заживет», а привлекательный молодой мужчина. Успешный, предприимчивый, богатый. И к тому же душевно открытый, даже простоватый. Обращаясь к Раневской, прилюдно признается: «Я люблю вас, как родную… больше, чем родную». Чувствуется, что судьба вишневого сада волнует его не меньше, чем хозяев. У Лопахина даже план спасения этих людей имеется, только вот не понимают они его. Поток сознания чеховских героев неразрывно связан с воспоминаниями о прошлой жизни, которые, судя по всему, больше, чем воспоминания. Поэтому их вчера реальнее, чем сегодня. Вспоминают и обретают опору, оживают. «Посмотрите, покойная мама идет по саду… в белом платье! Это она», – говорит Раневская. Эхом отзывается Гаев: «Я сидел на этом окне и смотрел, как мой отец шел в церковь…» Да, это память, которая жива в каждой секунде бытия. Потому-то все они, растерянные перед обстоятельствами, держатся друг друга. На резкую реплику Раневской: «Как это – продать сад?!» сбегаются встревоженные домочадцы. Они стоят, словно приговоренные к пожизненному заключению. И когда в контексте событий раздастся резкий звук от удара по висящей рельсе, созывающий героев отобедать (они едят из эмалированных тарелок, торопливо стучат ложки), откроется панорама их будущей жизни.
Для Раневской и Гаева (артист Евгений Бакуменко) сад – это нечто большее, чем просто старинное родовое имение. Это – земля обетованная. Ось жизни. С какой внутренней болью, с каким предельным сокрушением говорит Любовь Андреевна о саде: «Ведь я родилась здесь, здесь жили мои отец и мать, мой дед, я люблю этот дом, без вишневого сада я не понимаю своей жизни, и если уж так нужно продавать, то продавайте и меня вместе с садом»! В порыве полного отчаяния Любовь Андреевна пытается развернуть «многоуважаемый шкаф», с помощью Фирса ей удается это осуществить. Зритель увидит на тыльной стороне шкафа портрет маленького мальчика в шляпке с полями. Грустный такой портрет. Она сядет рядом с ним: «Мой сын утонул здесь». Невозможно забыть лицо Раневской в этот момент. Ее страдание и всепоглощающая печаль рождают глубокое сопереживание.
За бесконечными разговорами персонажей, за самозабвенной верой то в «новую жизнь», то в «ярославскую бабушку» проступает абсолютная беспомощность и надломленность главных героев. Как говорит старенький Фирс (артист Виктор Синицын), хранитель Времени: «Все враздробь, и не поймешь ничего». В атмосфере спектакля есть нечто фатальное. «Надрыв пространства и времени так высок, что с ним невозможно не считаться». (Алёна Карась. «Эх, эх, без креста…» Новая газета, 06.02.2015.) Он обволакивает и дом, и сад, и простирается все дальше и дальше, отзываясь «звуком лопнувшей струны», как бы предупреждающим о точке невозврата.
Режиссер Афанасьев создает характерное для постмодернизма единое пространство-время. В нем вполне убедительно сосуществуют и песня о счастье Джона Леннона, которую поет родства не помнящая Шарлотта Ивановна (актриса Светлана Сатаева), и горьковский «Буревестник», под крылом которого готовит себя к новой жизни Петя Трофимов (актер Евгений Любицкий), и либертанго Астора Пьяццоллы, соединившее в порыве страсти Лопахина и Раневскую. Этот танец, обнажающий что-то глубоко потаенное, личное, производит ошеломляющее впечатление и на действующих лиц, и на зрительный зал, который после эротического вихря буквально взрывается аплодисментами. И странным образом закрадывается надежда. А вдруг на этот раз вишневый сад будет спасен! Ну, почему бы и нет? Ведь были же Третьяковы, Мамонтовы, Морозовы, а? Но Сергей Афанасьев – жесткий режиссер, не допускающий никаких иллюзий. Достаточно вспомнить сцены, в которых Лопахин с упоением рассказывает о торгах, совершенно не чувствуя боли хозяев усадьбы или с горделивой плебейской радостью кричит: «Вишневый сад теперь мой! Мой! Приходите смотреть, как Ермолай Лопахин хватит топором по вишневому саду!» И он действительно возьмет топор и замахнется. Раневская взметнется и ляжет под топор. Только так она сможет продлить жизнь сада и запомнить его цветущим. А потом все эти странные милые люди соорудят «ковчег», заполнят его нехитрым скарбом и поплывут неизвестно куда и зачем в поисках утраченного времени. Фирс, которого забыли в проданном доме, будет бежать и бежать по замкнутому кругу, пытаясь догнать хозяев, пока не упадет.
В зрительном зале – напряженная тишина. Абсолютное погружение в сценическое действие. Чеховский текст, осмысленный и прочувствованный в контексте нашего времени, создает сильное драматическое напряжение. Герои спектакля часто вглядываются куда-то вдаль, как бы надеясь что-то там разглядеть. Может быть, ответы на свои внутренние вопросы? А, может быть, прошлое, о котором они часто вспоминают? А может быть, новую жизнь и гордого человека?
Спектакль МТА «Вишневый сад», несомненно, художественное явление в театральной жизни Барнаула. Он наполнен живой энергией. Он будоражит, волнует, раздражает и просветляет наши души. «Вишневый сад» – спектакль ансамблевый, в котором главную роль играет ведущая актриса МТА Галина Чумакова. Сложнейшая роль мирового репертуара сыграна ею с мощным внутренним драматизмом, с глубоким психологическим проживанием судьбы Раневской. Бытование героини долго не отпускает и «возвращает образы и множит».
«Пишу по четыре строчки в день, и те с большим трудом». Это строки из письма Чехова о работе над пьесой «Вишневый сад» в Ялте, где он находится по рекомендации врачей. Через полгода после премьеры «Вишневого сада» в Московском художественном театре Антон Павлович умрет. А мы, люди, живущие в третьем тысячелетии, с памятью о двух мировых войнах, Холокосте и Хиросиме, уже не можем вслед за молодыми героями пьесы восторженно приветствовать новую жизнь.
Елена Кожевникова
Источник: «Культура Алтайского края»