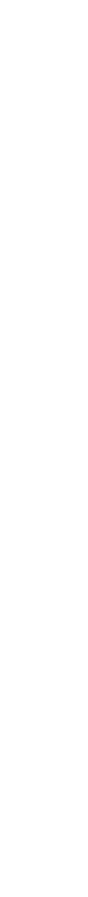«Культура Алтайского края»: лабиринты судеб – Иван Стебунов поставил в Молодёжном театре Алтая спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева «Иллюзии»
Иван Стебунов, известный российский актер, и во втором воплощении – режиссер, поставил в Молодежном театре Алтая спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева «Иллюзии». Постановщик вслед за драматургом извлек из банального сюжета философский смысл и уверенно провел зрителя от недоумения к катарсису.
Сцена-ребус
Пьеса «Иллюзии» построена на жизненных историях, которые рассказывают четыре пожилых человека – две супружеские пары, дружившие с юности. Герои расположились на трех диванчиках и попеременно повествуют о себе или о ком-то из четверки. Организация игрового пространства и композиционные приемы постановки – живые высказывания героев перемежаются с видеозаписями из семейного архива и рекламой, транслирующимися на экран, – словно под копирку сняты с известного телешоу «Пусть говорят». Первые минуты спектакля зритель испытывает недоумение: сначала по поводу сценографии, затем – монолога Дени (актер Александр Савин). Театральный критик Яна Глембоцкая, слушая речь Дени, и вовсе испугалась: «Все пропало!».
Дени умирает, его последняя речь обращена к жене, с которой они прожили 52 года. Длинный монолог о любви герой произносит ровным речитативом, предельно ясно выговаривая слова, не допустив ни одного эмоционального всплеска, будто тренирует дикцию. Речевую интонацию можно сравнить с чтением инструкции по применению чего бы то ни было, с зазубриванием параграфа из учебника, со спичем менеджеров, приносящих товары в офисы, или с заключительными слоганами телеведущих, которые отрепетированной скороговоркой произносятся в финале программы: берегите себя и своих близких. В такой же малопересеченной, бесстрастной манере дьячок бормочет правило в пустой церкви.
«Я благодарен тебе за то, что ты научила меня любви, – говорит Дени Сандре. – Я ни разу не изменил тебе. Я благодарен тебе, ты объяснила мне, что настоящая любовь это не слова, не романтика, это труд; любовь – это взаимность и ответственность…».
И далее минут пять в этом же духе, и все – на одной ноте.
Зритель теряется в догадках по поводу безэмоциональной оболочки прощального слова, как, впрочем, и по поводу самой возможности столь долгой и столь книжной на смертном одре речи. Дени произносит формулы. Мы слышали их тысячи раз. Они нам знакомы, как, например, знакомы десять библейских заповедей.
«Любовь может быть только взаимной», – повторяет Дени.
«Любовь может быть разной», – включается в мысленный диалог зритель и, заметим, тоже фразой-штампом.
Люди, пришедшие на показ, сомневаются во всем, что происходит на сцене, они испытывают даже некоторое недоверие к режиссеру. У публики много вопросов, и, пожалуй, она готова оспорить постулаты Дени. При этом нетрудно заметить, что на каждое внутреннее вопрошание находится, как минимум, два ответа и оба имеют право на существование. Озадаченный зритель невольно втягивается в историю, собственно, он попадает в ловушки, расставленные режиссером. И сцена а-ля Малахов, и монотонное слово героя – все это западня, которую Стебунов выстраивает намеренно, чтобы заставить зрителя удивляться и даже раздражаться, дабы в итоге овладеть его вниманием. Постановщик прибегает к уловкам, поскольку в пьесе «Иллюзии» слабо выражено действие, зато много текста – спектакль состоит из монологов.
Сценические ходы Иван Стебунов выстраивает от противного. Мы привыкли воспринимать театр как нечто необычное с интересными декорациями, эмоциональными диалогами. И вдруг все наоборот: мгновенно узнаваемый, можно сказать, из вульгарной повседневности игровой помост; очищенная от эмоций, стерилизованная речь. В основе творческого почерка режиссера – поэтикаребус, она призвана задавать зрителю задачи, заставлять думать.
Неслучайно на афише спектакля изображено многоликое яблоко, смачно надкушенное с одного бока. Это за спиной Ивана Стебунова маячит образ художника Рене Магритта, создававшего картины-ребусы и часто вместо лица изображавшего яблоко. Работы Магритта призывают освободиться от банальных смыслов, побуждают к активному размышлению и поиску ответов на вечные вопросы. В «Иллюзиях» замысел срабатывает: слушая банальные истории, зритель погружается в глубокую рефлексию, философские размышления.
О чем пишет и за кем идет Вырыпаев?
Вот вкратце содержание пьесы «Иллюзии». Через год на смертном одре окажется Сандра (актриса Юлия Юрьева), жена Дени. Она позовет Альберта (артист Анатолий Кошкарёв), друга мужа, и признается, что всю жизнь любила только его, на расстоянии, не смея выдать себя. Большое чувство помогало ей жить, безответность научила ее ценить любовь и переносить это великое чувство на других людей. Альберта тут же озаряет, что он всю жизнь любил Сандру, и он признается в этом жене Маргарит (актриса Ирина Клишевич). Та в ответ сообщает, что она и Дени были любовниками. («Выходит, Дени лгал на смертном одре?!» – вычисляет зритель.) Альберт вспоминает: когда-то Дени ему признался, что сходит с ума по его жене, но и не более, приблизиться к ней не посмеет. После раздумий Альберт приходит к выводу: нет, все-таки он всегда любил свою Маргарит, с радостным известием он спешит к ней и находит жену в петле. Женщина оставила записку, в которой известила мужа о том, что всю жизнь любила только его, Альберта, а про Дени сочинила.
Как говорится, простые житейские истории – самое прискорбное, узнаваемые. Бесхитростная, казалось бы, пьеса, построенная на клишированном тексте, превращается в огромных размеров лабиринт с бесконечным количеством ходов – версий человеческих судеб.
«Человек – это игра возможностей», – сказал австрийский писатель-философ Роберт Музиль (1880 – 1942), автор романа «Человек без свойств». Известный швейцарский писатель Макс Фриш (1911 – 1991) развил эту тему в своих пьесах и романе «Назову себя Гантенбайн» (1974). Наш современник Иван Вырыпаев продолжает традиции Музиля и Фриша.
Макс Фриш становится популярным писателем после Второй мировой войны, когда западное общество остро переживает факт разрушения, распада личности. Человек оказался способным истязать, пытать, отправлять в газовые камеры и при этом любить искусство, играть на скрипке, писать картины. Главным в произведениях Фриша становится проблема идентичности, цельности человека. Больная тема тревожит запад (и равно все стороны света) и в ХХI веке. Пьеса «Иллюзии» была заказана Ивану Вырыпаеву немецким театром.
Творческие манеры Фриша и Вырыпаева весьма близки. Пьесы обоих авторов написаны в ключе экспериментального допущения: могло быть так, а могло этак, а еще так, что и вовсе страшно подумать. К примеру, Дени в «Иллюзиях» заводит речь об инцесте, но тут же успокаивает возмущенного зрителя: «Шутка». Человеческое «Я» содержит бесконечное множество вариантов. Однако судьба (биография) имеет единственное воплощение – повторить и переиграть нельзя. Можно только представить, что могло бы быть иначе.
В пьесах того и другого присутствует психологический подтекст, выводящий к мысли: мы меньше всего знаем людей, которых любим. Произведения Фриша и Вырыпаева не оставляют сомнений, что действие, вынесенное на сцену, не вымысел, а подсмотренный кусок жизни. Кроме того, оба наследуют чеховскую традицию, а именно: они строят произведение-айсберг, в котором лишь одна треть (несложная сюжетная канва) над водой и две трети (подспудные смыслы, причины, вопросы) невидимы сразу, но постепенно и неуклонно открываются. (К слову, и Рене Магритт говорит в своих картинах об обманчивости видимого.) Вырыпаев вдобавок определяет «Иллюзии» как комедию. Над чем бы посмеяться в ней? Не найдем, как и у Чехова. Что смешного в ситуациях, когда человек решается свести счеты с жизнью?
Называя героя Альбертом, Вырыпаев намекает на самого известного человека с этим именем – создателя теории относительности. Да, все относительно в этой жизни (кто не знает этой формулы?). Со смертью Альберта (он проживет после Маргарит еще 10 лет), исчезнет и история закадычной четверки, рассеется их боль и горе, будто и не было ничего. Все – иллюзии.
Обращение к современнику
Иван Стебунов присоединяется к замечательной команде писателей и художников, объединенных сквозь время единомыслием, поскольку также проникнут тревогой за человека, за мир.
Что хочет сказать режиссер современнику своими «Иллюзиями»? Мы увидели в спектакле следующее. Человек из огромного числа версий, предлагаемых жизнью, стремится выбирать лучшие, творчески состоятельные. Сложность в том, чтобы при темпераментном движении к лучшему не допустить оскорбления, боли и горя других, принадлежащих к роду человеческому. Постановка Ивана Стебунова заставляет вспомнить, как легко, не думая о последствиях, не специально мы манипулируем сердцем, судьбой, жизнью людей, оказавшихся рядом с нами. Режиссер просит о милосердии, об ответственности за близких, за человека вообще. «Уходя, не гаси свет в чужой душе», – приходят на память слова грустного клоуна Леонида Енгибарова (1935 – 1972).
Современный человек плохо справляется с этой задачей, он расщеплен, расслоен, болезнен, он ранен и сам ранит, ему трудно оставаться цельным. Он часто сам не знает, в какой ситуации он равен себе, где он подлинный. Современник многолик и истерзан. Он странен, поскольку одновременно стремится и оголяться (проведем аналогию со студией «Пусть говорят», процитированной в спектакле Стебунова, где стало нормой открывать самые стыдные истории), и скрываться. С «Иллюзиями» созвучен один факт из биографии художника Магритта, ставшего незримым соавтором постановки Ивана Стебунова. Жена художника, прожившая с ним почти 50 лет, узнала о самоубийстве матери Рене только от его биографа. И в этом современный человек: ему страшно и больно открыть внутреннюю поврежденность, изуродованность (надкушенное яблоко на афише, по сути, изъятое лицо) даже близким людям.
Постановка передает тревожную атмосферу современной действительности – потерянность, непонимание происходящего, размытость основ (хотя мы все знаем про десять заповедей). На сцене жив девиз наших дней: «Верить никому нельзя». Реклама, никак не связанная с основным действием пьесы, отражает саму себя и уподобляется символу ненасытного бездушного Молóха, неподвластного быстрому укрощению даже в дни национального траура (в памяти воскрес самолет, упавший в Черное море в конце 2016 года).
Постановка получилась актуальной, острой. Актеры достоверны, они играли нас, современников, на их лицах были наши маски, наша уверенность и наша беспомощность, – мы узнавали себя.
Пьесу завершает многократно повторенная фраза: «Ведь должно же быть хоть какое-то постоянство в этом переменчивом космосе?».
Зрители покидали зал молча, сосредоточенно, будто додумывая действие, выискивая другие, более счастливые, варианты для этой истории. Спрятавшись за колонной в фойе, на скамеечке, плакала женщина. Настоящий катарсис! Может ли мечтать режиссер о большем?!
Лариса Вигандт
Источник: «Культура Алтайского края»