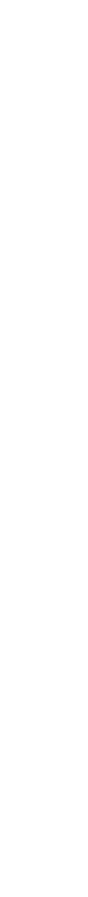«Культура Алтайского края»: женщина ждёт – в МТА поставили спектакль-странствие «Марьино поле»
Полутемное безжизненное пространство. Сцену, усыпанную землей, пересекает существо, облаченное в черные одежды, с лицом пугающе бледным. Словно подгоняемая ветром, гремит, катясь по земле, жестяная банка. Пустота. Безвременье. Так открывается спектакль «Марьино поле» по пьесе уральского драматурга Олега Богаева, который в МТА поставили под занавес 64-го театрального сезона. Режиссером выступила Ирина Астафьева, уже знакомая барнаульскому зрителю по sound-драме «Лёха» в краевом драмтеатре, сценографом – Георгий Пашин (Санкт-Петербург), хореографом – Александр Пучков. Над концептами костюмов работала Мария Рыкова (Санкт-Петербург).
«Странствие» – можно прочесть на афише под названием спектакля. Выбор именно этого слова для обозначения жанра, с одной стороны, обусловлен сюжетом – три старухи, единственные обитательницы заброшенной деревни, отправляются на железнодорожную станцию, чтобы встретить вернувшихся с фронта мужей. Неважно, что каждая из них в свое время получила похоронку, неважно, что со Дня Победы в 1945 году прошло не одно десятилетие. Не то сон, не то видение, посетившее одну из старух, вселяет в одиноких женщин святую веру в то, что их мужья живы, но по какому то недоразумению не могли вернуться домой раньше. С другой стороны, семантика слова «странствие» – более возвышенного, духовного, нежели просто «путешествие», – намекает на то, что путь героинь спектакля лежит не только через пространство, но и через время.
Пьеса Олега Богаева строится по принципу русской волшебной сказки – в ней можно найти большинство атрибутов этого жанра, описанных еще в начале прошлого века фольклористом Владимиром Проппом: недостача (в данном случае – отсутствие мужей), которую герою необходимо восполнить, борьба с вредителями, что встают на пути, и последующая победа (в «Марьином поле», например, старухам удается одолеть Геббельса и Гитлера, которые обрели образы лешего и черта), появление помощника (Левитан, который подсказывает старухам дорогу к озеру с молодильной водой) и т.д. Создатели спектакля в МТА обыгрывают эти фольклорные мотивы богаевской пьесы, добавив персонажей, которые в программке обозначены как «поле». Это девушки, одетые в свободного кроя черные платья, и с кокошниками на головах. Они не раз возникают на сцене во время действа, словно духи, тени тех женщин, которые жили на русской земле до главных героинь.
Эффект путешествия сквозь время достигается и с помощью интермедий с участием танцоров – как указано в программке: «лиц СССР» – в исполнении Дарьи Чиж и Дмитрия Борисова. Белые костюмы и белый же грим, покрывающий не только лицо, но и другие участки тела артистов, делают их похожими на гипсовые парковые скульптуры советского периода. Короткие интермедии воспринимаются как дайджест знаковых событий, произошедших во временном отрезке с 1940 годов и до конца 1990 х. На экране демонстрируются кадры видеохроники – от первого полета человека в космос до чернобыльской катастрофы, фоном звучат песни в исполнении Олега Анофриева, Джо Дассена, группы «Кино».
Спектакль в целом получился музыкально насыщенным – помимо композиций, звучащих в записи, зрители услышали живой вокал артистов МТА. Уже упомянутые выше актрисы, воплощающие собирательный образ «поля», исполняют народные песни, сюжет которых перекликается с сюжетом спектакля, – например, песню «Кумушки», в которой есть такие слова: «Ваши дружки с войны пришли, а мой не пришел. Он сам нейдет, письма не шлет, забыл про меня». В одной из сцен девушки занимаются бытовыми делами – одна шлифует серп, другая затачивает пилу, третья качает деревянную люльку и т.д., и звуки, которые они при этом извлекают: лязг, скрипы, стуки, – тоже сливаются в своеобразную суровую музыку. Лейтмотивом на протяжении всего действа звучит композиция «Жди меня, жди» авторства современного композитора и певца Алексея Вдовина – ее исполняет мужской хор театра. Создатели спектакля выстраивают культурологическую цепочку, протягивают нить между творчеством современника и одним из самых известных стихотворений Великой Отечественной войны, о силе веры, любви и надежды – «Жди меня» Константина Симонова. В спектакле оно не упоминается, но в том числе благодаря созвучию строк и смыслов неизбежно приходит зрителю на ум. Кстати, за музыкальное оформление «Марьиного поля» в МТА отвечала Екатерина Порсева – актриса театра драмы имени В.М. Шукшина.
Нельзя не сказать о трио главных героинь, разных по характеру и в то же время дополняющих друг друга. Удачным получился ансамбль артисток МТА, каждая из которых подарила своему персонажу индивидуальную, неповторимую интонацию. Марья в исполнении Натальи Слядневой воплощает собой архетип русской женщины – мудрой, преданной, бесстрашной. Именно она видит сон о возвращении мужей с войны и подбивает подруг-соседок на странствие. Прасковья (актриса Анастасия Воскобойник) – наивная, мечтательная, в какой то степени даже блаженная. Острой на язык, практичной, деловой предстает Серафима в исполнении Виктории Проскуриной. Также ей принадлежит Корова (актриса Юлия Юрьева), которая, с одной стороны, привносит в постановку юмористическую нотку, с другой – становится воплощением Смерти, той самой хтонической сущности, которая возникла на сцене в начале спектакля.
В финале Смерть приходит к Марье – как оказалось, единственной из трех подруг, кто остался в живых. Тут то и становится понятно, что Марья ждет своего мужа Ивана не одно столетие. «Турецкая, японская, финская, гражданская, первая мировая была, вторая! С Куликова поля ждала Ваньку, помнишь?!» – обращается к девушке Смерть. Век за веком Марья просит у нее отсрочку, чтобы уж на этот раз все таки дождаться. И, получив согласие («Ладно, последний раз», – уточняет Смерть), торопится, бежит стремглав, танцует под дождем, словно обновляясь и набираясь сил перед столетним бодрствованием… Спектакль «Марьино поле» в МТА воспринимается как ода женщине, которая упорно, безнадежно, беззаветно ждет.
Юлия Плотникова
Источник: «Культура Алтайского края»